
Три года назад в Венеции скончался Дэвид Грэбер (1961–2020). В память о нем и в третью годовщину смерти анархиста журнал Akrateia предлагает перевод статьи, которую сам Грэбер условно назвал авто-этнографией и в которой он размышляет на тему того, что может и должен делать анархист-интеллектуал, находясь в академической среде, пронизанной иерархией и сектантством. Ряд тезисов этого текста (в частности, при сопоставлении марксизма и анархизма) Грэбер переносит из вышедших ранее «Фрагментов анархистской антропологии». Особый интерес представляет соотношение идей и практик политического авангардизма, художественного авангарда и анархизма.
Переводчик: Дмитрий Поляков.
Сперва я должен был написать критическую авто-этнографию своей жизни в академии, но быстро понял, что почти невозможно писать об академии критически. В 80-е годы мы все стали применять идею рефлексивной антропологии, пытаться исследовать то, что лежит за кажущимся авторитетом этнографических текстов, чтобы выявить сложные отношения власти и господства, которые привели к их созданию. Результатом стала волна этнографических размышлений о политике полевых исследований. Но, даже когда я был аспирантом, мне всегда казалось, что здесь, как ни странно, что-то упускается из виду. В конце концов, этнографические тексты пишут не в полевых условиях. Их пишут в университетах. И все же рефлексивная антропология почти никогда не говорила о властных отношениях, при которых эти тексты составлялись.
По прошествии времени причина кажется довольно простой: когда кто-то находится в поле, вся власть находится на одной стороне – или, по крайней мере, это можно легко вообразить. Размышлять о собственной власти не значит уязвить кого-то (на самом деле, это что-то вроде классической озабоченности высшего среднего класса), а даже если и так, то уязвленные, скорее всего, ничего не смогут с этим поделать. Однако в тот момент, когда кто-то возвращается с поля и начинает писать, отношения власти меняются на прямо противоположные. Если кто-то пишет свою диссертацию, то обычно является аспирантом без гроша в кармане, вся карьера которого вполне может быть разрушена одной неуместной интеракцией с членом комиссии. Пока этот кто-то превращает диссертацию в книгу, то, как правило, является ассистентом или внештатным доцентом, отчаянно пытающимся не наступить на чьи-нибудь влиятельные ноги и найти реальную постоянную работу. Любой антрополог в подобной ситуации скорее всего потратит много часов на разработку сложного, детального и чрезвычайно подробного этнографического анализа властных отношений, которые влечет за собой такая ситуация, но эта критика по определению никогда не может быть опубликована, потому что всякий, кто это сделает, совершит академическое самоубийство.
Можно лишь представить себе судьбу, скажем, студентки или аспирантки, написавшей эссе, которое документирует сексуальную политику ее факультета, не говоря уже о приставаниях со стороны членов ее комиссии. Или, например, судьбу некоего представителя рабочего класса, который опубликовал описание практики профессоров-марксистов, которые регулярно цитируют анализ воспроизводства классовых привилегий в академической среде Пьера Бурдье (1993), а затем в своей реальной жизни действуют так, как если бы Бурдье писал книгу с практическими рекомендациями вместо критики. К моменту, когда кто-то станет старшим преподавателем и тем самым закрепится на своем месте, то сможет обойтись и без публикации такого анализа. Но к тому времени – если не предаваться воспоминаниям – сама ситуация власти гарантирует, что эта тема больше не будет осознаваться.
С одной стороны, мои мысли подводят меня к выводу, что безопаснее было бы признать себя анархистом, чем писать честную авто-этнографию академии. С другой стороны, я и есть анархист. И меня поражает, что дилеммы, возникающие из этой реалии, предоставляют интересный комментарий к академии и ее modus operandi, который я и даю в настоящей статье.
Консенсус и прямая демократия
Свое докторское исследование я проводил в деревенской общине на Мадагаскаре в конце 1980-х – начале 1990-х годов, когда большую часть сельской местности государство практически забросило. Такие общины и в какой-то степени даже города были по большому счету самоуправляемыми; налоги никто фактически не платил, а в случае совершения преступления полиция не приезжала. Публичные решения, когда в них была необходимость, принимались обычно в рамках своего рода неформального консенсуального процесса. О последнем я кое-что писал в диссертации, однако, как и большинство антропологов, не мог понять все то интересное, что можно было бы об этом сказать.
В действительности же к пониманию того, что в консенсусе вызывало интерес, я пришел ретроспективно, когда десять лет спустя стал активистом в Нью-Йорке. К тому времени почти все североамериканские анархистские группы действовали на основе той или иной формы консенсуального процесса, и процесс этот работал настолько хорошо – на самом деле кажется, что это единственная форма принятия решений, полностью совместимая с не-нисходящими [non-top-down] стилями организации – что широко принимался всеми, кто интересовался прямой демократией.
Существует колоссальная вариативность между различными стилями и формами консенсуса, но почти все североамериканские варианты объединяет то, что организованы они в сознательном противодействии тому стилю организации и особенно дискуссии, которая типична для классических сектантских марксистских групп. Последние непременно организуются вокруг некоего главного теоретика, который предлагает всесторонний анализ ситуации в мире и, как правило, истории человечества в целом, но очень мало теоретических размышлений по более насущным вопросам организации и практики. Группы, воодушевляемые анархизмом, склонны действовать, исходя из допущения, что никто не может или, скорее, даже никогда не должен всецело обращать другого человека в свою собственную точку зрения, что структуры принятия решений – это способы управления разнообразием, и что, следовательно, нужно сосредоточиться на поддержании эгалитарных процессов и рассмотрении непосредственных вопросов действия в настоящем.
Скажем, один из фундаментальных принципов политической дискуссии состоит в том, что каждый обязан предоставить другим участникам преимущество сомнения в своей честности и добрых намерениях, что бы он ни думал об их аргументации. Отчасти это вытекает из самого стиля дискуссии, который способствует принятию консенсуального решения: в то время, как голосование побуждает человека сводить позиции своих оппонентов к враждебной карикатуре или к чему угодно в целях победы над ними, консенсуальный процесс строится на принципе компромисса и творчества, когда человек постоянно меняет свои предложения, пока не дойдет до того, с чем каждый сможет хоть как-то примириться; поэтому стимул всегда заключается в том, чтобы дать как можно лучшее толкование аргументов других сторон.
Все это было очень похоже на то, что я видел на Мадагаскаре; главное отличие состояло в том, что, поскольку американские активисты учились этому с нуля, то это все следовало подробно разъяснять. Так что активистский опыт пролил новый свет на мою первоначальную этнографию.
И все же меня поразило, насколько обычная интеллектуальная практика – например, та, которую я проходил в Чикагском университете – реально напоминает именно тот сектантский способ ведения дебатов, которого так старались избежать анархисты. Одна из вещей, которая больше всего беспокоила меня во время моего обучения там, заключалась именно в том, как нас подталкивали к усвоению аргументов других теоретиков: подталкивали чаще всего самым немилосердным образом. Иногда я задавался вопросом, как это можно примирить с идеей, что интеллектуальная практика на каком-то предельном уровне является обычным предприятием по поиску истины. На самом деле академический дискурс часто кажется почти точным воспроизведением стиля интеллектуальных дебатов, характерного для самых абсурдных авангардистских сект.
Анархизм и академия
Все это помогло объяснить кое-что еще, а именно: почему в академии так мало анархистов. Как политическая философия анархизм переживает настоящий ренессанс. Анархистские принципы – автономия, добровольное объединение, самоорганизация, прямая демократия, взаимопомощь – стали основой для организации новых социальных движений от Карнатаки до Буэнос-Айреса, даже если в действительности их представители, скорее всего, называют себя автономистами, ассоциационалистами, горизонталистами или сапатистами. Тем не менее, большинство ученых, кажется, имеют лишь смутное представление о том, что со всем этим происходит, и склонны отбрасывать анархизм как глупую шутку (скажем, «Анархистская организация! Но разве это не оксюморон?»). Есть тысячи академических марксистов, но не более горстки известных академических анархистов.
Не думаю, что это потому, что ученые туго соображают. Марксизм, как мне кажется, всегда имел такое родство с академией, какого у анархизма не могло быть никогда. В конце концов, марксизм – это, пожалуй, единственное социальное движение, которое изобретено человеком, защитившим докторскую диссертацию; да и сам его дух всегда содержал в себе нечто вполне вписывающееся в академию.
Анархизм же, с другой стороны, никогда и никем не изобретался. Правда, историки обычно трактуют его именно таким образом, выстраивая историю анархизма так, будто он в принципе тождественен по своей природе марксизму: создавался конкретными мыслителями XIX века (Прудоном, Бакуниным, Кропоткиным и другими), воодушевлял рабочие организации, ввязывался в политическую борьбу и так далее. На самом же деле такая аналогия кажется натянутой. Мыслители XIX века, которым обычно приписывают изобретение анархизма, не считали, что изобретают нечто специфически новое. В анархизме они усматривали своего рода моральную веру, отказ от всех форм структурного насилия, неравенства или господства (анархизм буквально означает «без правителей») и убеждение в том, что люди вполне способны обойтись и без них. В этом смысле анархисты были всегда и, по-видимому, всегда будут.
Достаточно лишь сравнить исторические школы марксизма и анархизма, чтобы увидеть, что мы имеем дело с принципиально иным явлением. У марксистских школ есть авторы. Как марксизм возник в голове Маркса, так у нас есть ленинисты, маоисты, троцкисты, грамшисты, альтюссерианцы и многие другие. Заметьте, как список начинается с глав государств и едва ли не органично переходит к французским профессорам. Пьер Бурдье (1993) отметил однажды, что если академическая среда представляет собой игру, в которой ученые стремятся к превосходству, то вы понимаете, что выиграли в тот момент, когда другие ученые начинают задаваться вопросом, как бы из вашего имени сделать прилагательное. Судя по всему, чтобы сохранить вероятность «выигрыша» – быть признанным интеллектуальным титаном или, по крайней мере, иметь возможность сидеть у его ног – интеллектуалы настаивают на том, чтобы продолжать использовать лишь те исторические теории Великого человека, над которыми они насмехались бы при дебатах о чем-то другом. И действительно, идеи Фуко, как и идеи Троцкого, никогда не рассматриваются в первую очередь как продукты определенной интеллектуальной среды, как нечто, возникшее в результате бесконечных разговоров и споров в кафе, аудиториях и т. д., а всегда так, как если бы они возникли из гения одного человека. В этом марксизм кажется вполне совместим с духом академии.
Школы анархизма, напротив, всегда возникают из какого-то организационного принципа или разновидности практики: анархо-синдикалисты и анархо-коммунисты, инсуррекционисты и платформисты, кооперативисты, индивидуалисты и другие[1]. Анархистов отличает то, что они делают, и то, как они при этом организуются. Фактически это именно то, о чем анархисты всегда размышляли и спорили большую часть своего времени. Их никогда особенно не интересовали занимающие марксистов общие стратегические или философские вопросы вроде таких: «Являются ли крестьяне потенциально революционным классом?» (анархисты склонны считать, что это должны решать крестьяне) или «Какова природа товарной формы?». Анархисты скорее предпочитают спорить о том, как по-настоящему демократично провести собрание, в какой момент организация перестает быть расширением прав и возможностей людей и начинает подавлять индивидуальную свободу. Обязательно ли «лидерство» – это плохо? Или, как вариант, об этике противостояния власти: что такое прямое действие? Следует ли осуждать того, кто убивает главу государства? Всегда ли допустимо разбивать окно?
Таким образом, марксизм стремился быть теоретическим или аналитическим дискурсом о революционной стратегии. Анархизм же стремится быть этическим дискурсом о революционной практике. Это также означает, что между ними есть немало потенциальной взаимодополняемости. Нет причин, по которым нельзя было бы прописывать марксистскую теорию и вместе с тем заниматься анархистской практикой; на самом деле, многие так и делают, включая меня[2]. Но если все-таки анархизм – это этика практики, то сказать, что вы анархист – значит не сказать ничего, если при этом вы ничего не делаете. И это такая форма этики, которая прежде всего настаивает на том, чтобы наши средства соответствовали целям; что нельзя созидать свободу авторитарными средствами; что, насколько это возможно, человек должен воплощать собой то общество, которое хочет создать. А потому невероятно сложно представить, как можно было бы заниматься этим в университете, не имея серьезных неприятностей.
Я как-то спросил Иммануила Валлерстайна, почему, по его мнению, ученые ведут свои дебаты в столь сектантском стиле. Он повел себя так, словно ответ был очевиден: «Что ж, академия… Это идеальный феодализм». На самом деле современная университетская система – это едва ли не единственный институт, помимо британской монархии и католической церкви, который сохранился более или менее нетронутым со времен Высокого Средневековья[3].
Что на самом деле значило бы вести себя как анархист в среде, полной деканов, ректоров и людей в забавных мантиях, скачущих по роскошным отелям во время конференций, ведущих интеллектуальные сражения на языке столь загадочном, что никто из тех, кто не провел хотя бы пару-тройку лет в аспирантуре, даже и не надеется его понять? По крайней мере, это означало бы бросить своеобразный вызов университетской структуре. Итак, мы вернулись к проблеме, с которой я начал: вести себя как анархист было бы академическим самоубийством. Так что совершенно неясно, что академик-анархист мог бы по-настоящему сделать.
Революционеры и университет
Если бы кто-нибудь последовал за Валлерстайном, то, несомненно, стало бы возможным написать историю академического сектантства, начиная, быть может, с богословских распрей между доминиканцами и францисканцами в XIII веке – то есть как раз тогда, когда ссоры были буквально между соперничающими сектами – и проследить ее до истоков современной университетской системы в Пруссии начала XIX века. Как отмечал Рэндалл Коллинз (1998), реформаторы, которые создали современную университетскую систему (главным образом тем, что поставили философию на место, ранее занимаемое теологией в качестве ведущей дисциплины, и привязав это учреждение к новому централизованному государству), почти все были представителями той или иной формы философского идеализма. Его аргументация кажется несколько циничной, однако тот же паттерн повторялся в столь многих местах – идеализм стал доминирующей философской моделью как раз в тот момент, когда реформировались университеты, сперва в Германии, затем в Англии, США, Италии, Скандинавии, Японии, – что сложно отрицать: здесь явно происходит что-то неладное [Коллинз, c. 844]:
«Предлагая сделать философский факультет арбитром для остальных дисциплин, Кант тем самым ратовал за верховенство академических карьер по отношению к церковным <…>. Когда Фихте представлял университетских философов как новый род философов-царей, он лишь выражал в наиболее пышной форме стремление обладателей академических степеней монополизировать вступление в ряды правительственной администрации. Основа для этих аргументов должна была вырабатываться в понятиях философского дискурса; но мотивация для создания этих понятий шла от реалистической оценки изменения структуры в направлении, благоприятном для самоуправляющейся академической элиты».
Если так, то это объясняет, почему последователи Маркса, этого великого бунтовщика против немецкого идеализма, могут стать таким прекрасным дополнением к духу академии – даже ее зеркальным отражением – и в то же время служить мостом, по которому привычки в аргументации, некогда типичные для богословов, могут быть перенесены в область политики. Некоторые утверждают (как, думаю, и Коллинз), что эти сектантские разногласия являются просто неизбежными характеристиками интеллектуальной жизни. Новые идеи могут возникнуть лишь в суматохе конкурирующих школ.
Вероятно, это правда, и все же мне кажется, что здесь упускается главное. Прежде всего, группы, основанные на консенсусе, о которых я говорю выше, тоже уделяют особое внимание разнообразию точек зрения. Тем не менее, анархисты не рассматривают дискуссию как соревнование, в котором одна теория или точка зрения в конечном итоге должна победить. Вот почему обсуждение почти всегда фокусируется на том, что люди собираются делать. Во-вторых, сектантские формы дебатов едва ли способствуют развитию интеллектуального творчества. Трудно представить, как стратегия систематического искажения аргументов других ученых может способствовать реальному развитию человеческого знания. Это удобно лишь в том случае, если человек видит себя участником битвы, а его единственной целью является победа. Подобные методы используются для того, чтобы произвести впечатление на аудиторию. Конечно, в академических баталиях зачастую нет никакой аудитории – кроме разве что аспирантов или других феодальных вассалов – что делает их довольно бессмысленным, но это, похоже, значения не имеет.
Академические сражения будут разыгрываться перед несуществующей аудиторией точно так же, как крохотные троцкистские секты из семи-восьми членов неизменно будут притворяться, что вот-вот войдут в правительства и, таким образом, считают обязанностью излагать свои позиции по всем вопросам: от однополых браков до того, как лучше всего разрешить этническую напряженность в Кашмире. Все это может показаться смешным. На самом деле это и правда смешно. Но, по-видимому, это наилучший способ гарантировать себе победу в тех странных рыцарских турнирах, которые стали визитной карточкой «самоуправляющейся академической элиты» Коллинза.
Об идее авангарда
Здесь я, кажется, загнал самого себя в угол. Анархисты преодолевают сектантские привычки, всегда сосредотачиваясь на том, что у них общего и что именно они хотят сделать (разрушить государство, создать новые формы сообщества и т.д.). Что по большей части хотят сделать ученые, так это установить позиции по отношению друг к другу. Возможно, тогда было бы лучше взглянуть на это с другой стороны.
У анархистов есть слово для обозначения такого рода сектантского поведения. Они называют это «авангардизмом» и считают его типичным для тех, кто считает, будто надлежащая роль интеллектуалов состоит в том, чтобы дать правильный теоретический анализ мировой ситуации и чтобы суметь повести массы по истинно революционному пути. Одним из благотворных последствий популярности анархизма в современных революционных кругах является то, что такая позиция считается однозначно устаревшей. Проблема, тем самым, касается того, какой же все-таки должна быть роль революционных интеллектуалов. Или, попросту говоря, как нам избавиться от наших авангардистских привычек? Отделение социальной теории от авангардистских привычек может показаться особенно трудной задачей, поскольку исторически современная социальная теория и идея авангарда родились приблизительно в одно и то же время. На самом деле такова была идея художественного авангарда, и связь между ними (т.е. между современной социальной теорией, авангардизмом и авангардом) указывает на некоторые неожиданные перспективы.
Термин «авангард» был фактически изобретен Анри де Сен-Симоном (1825 г.) как итог серии эссе, написанных им в конце жизни. Как и его бывший секретарь, а затем соперник Огюст Конт, Сен-Симон писал после Французской революции и, по сути, задавался вопросом о том, что же пошло не так. Оба пришли к одному и тому же выводу: в современном для них индустриальном обществе не было института, который мог бы обеспечить идеологическую сплоченность и социальную интеграцию, в отличие от феодального общества с его средневековой католической церковью. Каждый из них в конце концов предложил новую религию: свою Сен-Симон (1825 г.) назвал «новым христианством», а Конт (1852 г.) – «новым католицизмом». В первом случае художники должны были играть роль духовенства: Сен-Симон создал воображаемый диалог, в котором представитель художников объясняет ученым, как, исполняя свою функцию в возможных сценариях будущего и вдохновляя публику, они будут играть роль «авангарда» – «истинно священническую функцию» – в будущем обществе, и как художники будут вынашивать идеи, которые ученые и промышленники затем воплотят в жизнь. В конечном итоге само государство как механизм принуждения просто исчезнет [4].
Конт (1852), конечно, известен больше всего как основатель социологии; действительно, он изобрел этот термин, чтобы описать то, что полагал главной дисциплиной, которая могла и понимать общество, и направлять его. В конечном итоге он применил другой, гораздо более авторитарный подход к социальной трансформации, предложив регулирование и контроль почти всех аспектов человеческой жизни в соответствии с научными принципами, при этом священническую роль в его новом католицизме играли сами социологи.
Это чрезвычайно любопытное противостояние, поскольку в начале XX века указанные позиции, по сути, поменялись местами. Вместо левых сен-симонистов, стремившихся к лидерству художников, и правых контианцев, мнящих себя учёными, у нас были фашистские лидеры вроде Гитлера и Муссолини, воображавшими себя великими художниками, которые вдохновляют массы и ваяют общество в соответствии со своими грандиозными видениями, и марксистский авангард, претендующий на роль ученых. Как бы то ни было, сен-симонисты активно пытались вербовать художников для участия в разного рода предприятиях, салонах и утопических сообществах, хотя быстро столкнулись с трудностями, поскольку многие в «авангардных» художественных кругах предпочитали более анархичных фурьеристов, а позднее ту или иную ветвь уже откровенных анархистов.
На самом деле число людей искусства XIX века с анархическими симпатиями просто ошеломляет: от Писсаро до Толстого и Оскара Уайльда, не говоря уже почти обо всех художниках начала XX века, которые позже стали коммунистами, от Малевича до Пикассо. Вместо того, чтобы быть политическим авангардом, возглавляющим путь к обществу будущего, радикальные художники почти всегда считали себя исследователями новых и менее отчужденных моделей жизни.
По-настоящему значительным событием XIX века была не столько идея авангарда, сколько идея Богемы (термин, впервые введенный Бальзаком в 1838 году): маргинальные сообщества, живущие в более или менее добровольной бедности, считающие себя преданными поиску творческих, неотчужденных форм опыта, объединенные глубокой ненавистью к буржуазной жизни и всему, за что она выступает. С идеологической точки зрения они с одинаковой вероятностью были либо сторонниками «искусства ради искусства», либо социальными революционерами. И на самом деле, похоже, что они были представлены той же социальной конъюнктурой, что и большинство революционеров XIX века или, если уж на то пошло, революционеров нынешних: своего рода встреча между определенными элементами (намеренно) «нисходящих» профессиональных классов с их широким неприятием буржуазных ценностей и мобильными детьми рабочего класса, стремящихся «наверх» – теми, кто сумел получить буржуазное образование лишь для того, чтобы обнаружить, что это не означает фактического доступа в ряды буржуазии.
В XIX веке термин «авангард» мог использоваться для обозначения всякого, кто исследовал пути к будущему свободному обществу. Радикальные газеты – даже анархистские – нередко назывались «Авангардом». Именно Маркс начал существенно менять эту идею, введя представление о том, что пролетариат является истинным революционным классом – хотя в действительности он не использовал термин «авангард» в своих работах, – поскольку именно он был наиболее угнетенным или, как он сам выражался, «отрицаемым» капитализмом, а следовательно, меньше всего мог что-то потерять от его, капитализма, упразднения. При этом он исключал возможность того, что менее отчужденные анклавы, будь то художники, ремесленники и независимые производители, составлявшие, как правило, базу анархизма, могли предложить что-то существенное.
Результаты всем нам известны. Идея авангардной партии, призванной как организовать, так и обеспечить интеллектуальный проект для этого наиболее угнетенного класса, выбранного в качестве агента истории, а также фактически разжечь революцию своей готовностью применить насилие, была впервые изложена Лениным в ключевом эссе 1902 года «Что делать?». Оно откликалось бесконечное число раз, вплоть до того, что в конце 1960-х годов такие группы, как «Студенты за демократическое общество», могли оказаться втянутыми в свирепые дебаты о том, следует ли считать партию «Черные пантеры» авангардом движения в качестве лидеров его наиболее угнетаемого элемента.
Все это, в свою очередь, оказало курьезное влияние на художественный авангард, который все чаще стал организовываться в подобия авангардных партий, начиная с дадаистов и футуристов, публиковавших собственные манифесты, коммюнике, устраивавших друг другу чистки и иным образом создававших (иногда вполне намеренно) пародии на революционные секты[5]. Окончательное слияние произошло с сюрреалистами, а впоследствии с Ситуационистским Интернационалом, который, с одной стороны, был наиболее систематическим в попытках разработать теорию революционного действия в соответствии с духом Богемы, размышляя о том, что на самом деле может означать разрушение границ между искусством и жизнью – но который вместе с тем в своей внутренней организации проявлял какое-то сумасшедшее сектантство, полное стольких расколов, чисток и жестоких обличений, что Ги Дебор наконец заметил: единственным логическим выводом было бы окончательное сокращение Интернационала до двух членов, один из которых выгонит другого, а затем покончит жизнь самоубийством (что в общем-то не так уж далеко от того, что случилось на самом деле).
Производство без отчуждения
Для меня по-настоящему интригующий вопрос заключается в следующем: почему художников так часто привлекала революционная политика? Ведь действительно кажется, что даже во времена и в местах, когда практически нет других сторонников революционных перемен, их скорее всего можно найти среди художников, писателей и музыкантов; и даже в большей степени, чем среди профессиональных интеллектуалов. Думаю, ответ на этот вопрос должен иметь какое-то отношение к отчуждению. Судя по всему, существует прямая связь между опытом исходного воображения вещей и последующим их воплощением в жизнь (индивидуально или коллективно), то есть опытом определенных форм неотчужденного производства и способностью воображать социальные альтернативы. Это особенно верно, если этой альтернативой является возможность общества, основанного на менее отчужденных формах творчества.
Это позволило бы нам увидеть в новом свете исторический сдвиг от восприятия авангарда в качестве относительно неотчужденных художников (или, возможно, интеллектуалов) к рассмотрению их как представителей «наиболее угнетенных». Фактически я бы предположил, что у революционных коалиций всегда есть тенденция состоять из союза между наименее отчужденными и наиболее угнетенными членами общества. И это куда менее элитарная формулировка, чем может показаться, потому что реальные революции, судя по всему, имеют свойство происходить тогда, когда эти две категории пересекаются. В любом случае, это объясняет, почему почти всегда создается впечатление, что именно крестьяне и ремесленники – или, как вариант, лишь недавно пролетаризированные крестьяне и ремесленники – восстают и свергают капиталистические режимы, а не те, кого приучали к наемному труду в течение нескольких поколений.
Наконец, я подозреваю, что это также поможет объяснить чрезвычайную значимость борьбы коренных народов в том планетарном восстании, которое обычно называют «антиглобалистским» движением: такие люди, как правило, являются одновременно наименее отчужденными, но и наиболее угнетенными людьми на земле, и как только станет технологически возможным присоединить их к революционным коалициям, они почти неизбежно возьмут на себя ведущую роль в них.
Роль коренных народов, как ни странно, возвращает нас к значению этнографии. По-моему, в политическом плане этнография получила несколько незаслуженное к себе отношение. Нередко считается, что это по сути своей инструмент доминирования, метод, традиционно используемый иностранными завоевателями или колониальными правительствами. На самом же деле использование этнографии европейскими колонизаторами является чем-то вроде аномалии: в Древнем мире, например, во времена Геродота можно наблюдать всплеск этнографического любопытства, который исчезает в тот момент, когда на сцену выходят гигантские мультикультурные империи. Действительно, периоды большой этнографической любознательности, как правило, были периодами стремительных социальных изменений и, по крайней мере, потенциальной революции.
Более того, можно утверждать, что в обычных условиях этнография является не столько оружием сильных, сколько оружием слабых. Все те аспиранты, что создают подробные этнографии своих факультетов, которые они никогда не смогут опубликовать, в реальности делают – возможно, более теоретически обоснованным образом – то, что склонен делать каждый находящийся в подобном им положении. Слуги, наемники, рабы, секретари, наложницы, кухонные работники – практически все, кто зависит от прихотей кого-то, живущего в иной нравственной или культурной вселенной, по понятным причинам постоянно пытаются выяснить, о чем думает этот человек и как склонны мыслить такие люди, расшифровать их странные ритуалы или понять, как они ладят со своими близкими. И это совсем не то же самое, когда происходит наоборот[6].
Конечно, в идеале этнография – это нечто большее. В идеале она призвана выявить скрытую символическую, моральную или прагматическую логику, лежащую в основе определенных типов социальных действий; то, как привычки и действия людей обретают смысл, хотя сами люди этого не осознают. Однако мне кажется, что этнография оказывает потенциальное влияние на становление радикального, неавангардистского интеллектуала. Что нам необходимо сделать в первую очередь, так это взглянуть на тех, кто создает жизнеспособные альтернативы для своей группы, и попытаться выяснить, каковы могут быть более серьезные последствия того, что они (уже) делают.
Очевидно, то, что я предлагаю, сработало бы лишь в том случае, если бы в конечном счете это было формой авто-этнографии – в смысле изучения движений, в отношении к которым человек, по сути, взял на себя какие-то обязательства и частью которых он себя ощущает. Также это должно сочетаться с некоторой степенью утопической экстраполяции: вопросом выявления неявной логики или принципов, лежащих в основе тех или иных форм радикальной практики, а затем не только предложения анализа этим сообществам, но и использования его для формулировки новых перспектив. Эти перспективы должны быть предложены как потенциальные дары, а не как окончательный анализ или навязывание. Здесь также есть наводящие на размышления параллели в истории радикальных художественных движений, которые становились движениями как раз тогда, как становились собственными критиками[7]; существуют и интеллектуалы, которые уже пытаются заниматься именно такой авто-этнографической работой. И все же я говорю все это не столько для того, чтобы предоставить модели, сколько для того, чтобы наметить поле для дискуссии, ставя акцент на том, что даже само понятие авангардизма имеет гораздо более богатую историю и альтернативные возможности, чем большинство из нас могло бы когда-либо допустить. И это дает по крайней мере один вероятный ответ на вопрос, что же должен делать анархист-антрополог.
Вне всякого сомнения, есть и множество других.
Ссылки
1. Bourdieu, P. (1993) The Field of Cultural Production: essays on art and literature, in R. Johnson (ed.), Cambridge: Polity Press.
2. Коллинз, Р. (2002) Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск: Сибирский хронограф.
3. Comte, A. (1852) Catechisme Positiviste: ou sommaire exposition de la religion universelle en onze entretiens systematiques entre une femme et un prêtre de l’humanité, Paris: Chez le Auteur.
4. Saint-Simon, H. de (1825) Nouveau Christianisme: dialogues entre un conservateur et un novateur, primier dialogue, Paris: Bossange.
Примечания
1. Показательно, что те марксистские течения, которые не названы в честь отдельных лиц, например, автономизм или советский коммунизм, сами по себе предельно близки к анархизму.
2. Можно отметить, что даже Михаил Бакунин, несмотря на все свои бесконечные баталии с Марксом по практическим вопросам, лично перевел «Капитал» Маркса на русский язык. Также я должен отметить, что осознаю, что проявляю здесь некоторое лицемерие, предаваясь сектантским рассуждениям того же рода, которые я в других случаях критикую: есть школы марксизма, гораздо более открытые, терпимые и демократически организованные, а есть анархистские группы, которые являются невероятно сектантскими. Сам Бакунин вряд ли был образцом демократии по тем или иным стандартам. Мое единственное оправдание такого упрощения здесь состоит в том, что, поскольку я, возможно, сам являюсь марксистским теоретиком, то, по сути, высмеиваю себя так же, как и всех остальных.
3. На самом деле, историк Средневековья говорил мне, что по крайней мере во многих частях Европы университеты были более демократичными, чем сейчас, поскольку студенты зачастую сами выбирали преподавателей.
4. Сен-Симон был также, пожалуй, первым, кто выдвинул представление об отмирании государства: как только станет ясно, что власти действуют на благо общества, то силы заставить общественность прислушаться к их советам понадобится не больше, чем она нужна, чтобы заставить пациентов последовать совету своих врачей. Правительство перейдет к выполнению в лучшем случае некоторых второстепенных полицейских функций.
5. Однако обратите внимание, что эти группы, как и анархисты, всегда определяли себя через ту или иную форму практики, а не через имя какого-нибудь героического основателя.
6. Возьмем, к примеру, знаменитое эссе Тодорова о Кортесе, который, как он утверждает, был этнографом-любителем, стремившимся понять ацтеков, чтобы покорить их. Редко при этом отмечается, что Кортес пытался понять ацтеков именно до тех пор, пока их армия превосходила численность армии в соотношении примерно 100 к 1; в тот же момент, когда он их победил, его этнографическое любопытство, по-видимому, испарилось.
7. Конечно, идея самокритики в марксистской политике приняла совершенно иную, куда более зловещую тональность.
Помогите нашей работе, приняв участие в краудфандинге! Тем, кто нас поддержит, мы дадим приятный бонус - телеграм-стикера на основе рисунков хабаровского художника-анархиста Максима “Хадада” Смольникова. Чтобы получить стикера, сделайте пожертвование и напишите об этом в бот обратной связи нашего телеграм-канала.

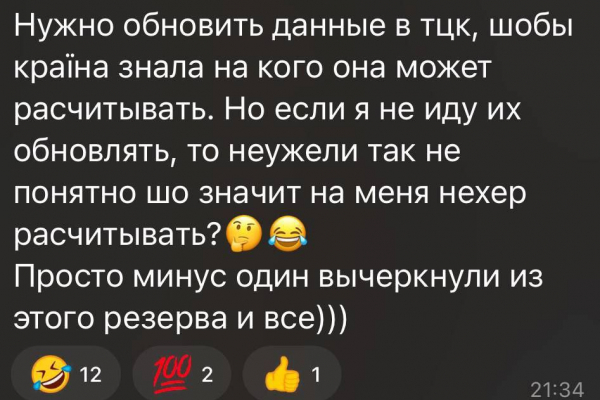

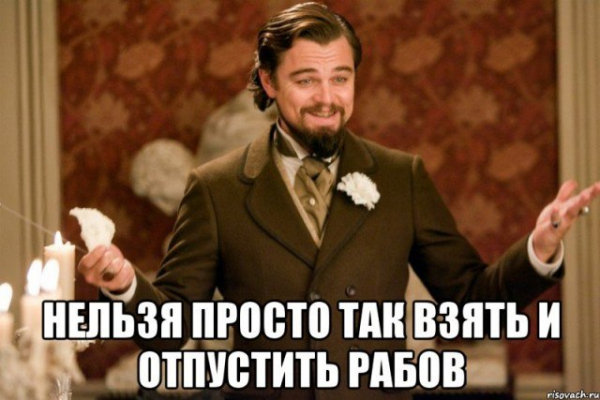
Добавить комментарий