В современных анархистских высказываниях часто говорится о надеждах на новых теоретиков и практиков типа Прудона, Бакунина, Кропоткина, что-де ждем появления новых ярких личностей, теоретиков-практиков, а пока активничаем по-возможности, по успешным наработкам. Такая позиция, в свою очередь,...
Добавить комментарий
Авторские колонки
Востсибов
В процессе анархической агитации крайне важна формулировка лозунгов, показывающих логическую, этическую и моральную несостоятельность выборов как института, касающегося каждого жителя страны как избирателя, с отражением необходимости их замены делегированием. Для этого необходимо проговорить, "...
2 месяца назад
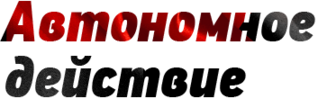



Уро
Уроки революции в Чечне
Происходящее в Чечне в 1991-1994 годах – очередной пример моральной провальности национал-освободительной идеологии. Власть Дудаева была не в состоянии остановить насилие, грабеж и этническую чистку терских казаков (живших как минимум с XVI века в районах, которые, скорее всего, никогда не были населены вайнахами) и других жителей республики, которые оказались в уязвимом положении при крахе советской системы.
Грубое упрощение характеризовать замену власти в Чечне в 1991 году как переворот или узурпацию власти. На самом деле в Чечне произошла настоящая революция, возможно, самая глубокая из всех тех, которые произошли в бывшем восточном блоке в 1989-1991 годах. Если в Центральной Европе и особенно в СССР перемены были во многом организованы самими представителями номенклатуры или, по крайней мере, оппозиционной интеллигенции, в Чечне представители низших слоев населения были вовлечены в намного большей степени, чем где-либо еще. Если сам Дудаев и его ближайшее окружение были представителями номенклатуры, основным двигателем в революции были самые маргинализированные слои общества – старики-жертвы депортации, сельская и безработная молодежь. Это объясняется спецификой советского строя в Чечне – если на высших постах республики прилично сохранили национальный баланс её жителей, то такого уже не было в средних, технических специальностях, которые в основном были закрыты для чеченцев. То есть, кроме узкой просоветской номенклатуры и интеллигенции, подавляющее большинство чеченцев было занято сельским хозяйством и находилось на нижних ступенях городской экономики из-за высокой рождаемости (которая, несомненно, частично была следствием травмы депортации) и ограниченных возможностей. С середины 1980 годов они также все больше были вовлечены в маргинальные и криминальные слои экономики. Эти люди никогда ничего не получали от советской власти, и у них были все причины ненавидеть всех, кто как-то встроился в систему.
С 1991 года наступил час расплаты, и они охотно использовали все возможности. Из Чечни сбежало не только неэтническoe население, а вообще большинство прежней интеллигенции. Было бы упрощением сказать, что конфликт имел чисто национальный характер – кроме этнического противостояния, также существовали конфликты «пролетариат против интеллигенции и бывших представителей номенклатуры» и «крестьяне против горожан». Но поскольку двигатели революции были лишены советской властью навыков управления современным государством, в Чечне произошёл процесс «демодернизации», более архаические структуры (религия, тейп) заменили современные. Но во взаимодействии с современным
капитализмом эти процессы произошли в коррумпированной форме – например, в древнем горном обществе институт рабства (который, скорее всего, даже неправильно так называть) был, судя по всему, формой социальной защиты для уязвимых людей, находящихся без поддержки семьи и рода.
Но теперь ему помешали быть таковым экономические интересы, и этот институт заменился крайне прибыльной торговлей людьми, которая в 1996-1999 годах достигла такого размаха, что стала главным источником иностранной валюты в республике, и с ней была связана большая часть её тогдашних руководителей. По данным «Новой Газеты», в том числе и Доку Умаров. Естественно, причиной войны 1999 года было не «освобождение рабов», а в первую очередь «сохранение целостности страны». Причиной также не были природные ресурсы республики, поскольку нефти и газа Чечни, скорее всего, никогда не хватит на компенсацию всех расходов войны. Но нельзя игнорировать то, что торговля людьми была одним из факторов, которые направили общественные симпатии в сторону России и против сепаратистов. Сепаратисты традиционно указывают именно на российские спецслужбы в качестве разжигателей внутричеченских конфликтов и поддержки бизнеса торговли людьми, и некоторые улики, доказывающие это, действительно существуют. Но заявления о том, что Басаев – агент ФСБ, невозможно принимать всерьёз, также как и конспирологические теории об 11 сентября, которые полностью отрицают способность самих мусульман создавать мощные движения против империалистических амбиций.
Теория Абдурахмана Авторханова, самого крупного чеченского научного и общественного деятеля в эмиграции, об относительно антиавторитарной исторически сложившейся «военной демократии» чеченцев не оказалась способной направить революцию в антиавторитарное русло – никакие архаические антиавторитарные общественные строи не могут существовать в окружении современного капитализма, нет никаких путей обратно в прошлое. Ну и по большому счету такие попытки не были приняты – вероятнее всего, Дудаев просто пытался быть маленьким Ельциным, или Ельцин – большим Дудаевым. Разгром чеченского парламента Дудаевым в 1992 году был повторен Ельциным чуть более года спустя в Москве. В июне 1993 года Дудаев уже стрелял из танков по мэрии и митингу оппозиции.
Прежде всего, пример чеченской революции является веским аргументом против тех марксистов (в первую очередь левых коммунистов), которые считают, что только материальные условия и классовый состав движения определяют его судьбу, и коммунизм возникает сам собой. Это не так – никакая эмансипация невозможна без охвата анти-авторитарными идеями воображения широких масс. И тут дело не в «отсталости» Чечни – на самом деле, в советской
Чечне промышленность была более развита, чем во многих других республиках – только преимущественно русский промышленный пролетариат оказался в привилегированном положении по отношению к преимущественно сельскому или люмпенизированному чеченскому пролетариату.
Постколониальные процессы, направленные против бывших представителей привилегированных слоев, были намного более жесткими, например, в Алжире и в Занзибаре
60-х годов. Но то, что произошло в Чечне 1991–1994 годах, является напоминанием анархистам о том, что не всякая революция – анархическая, даже тогда, когда она насильственная, не несет (только) этнический характер и двигающей силой ее являются самые низкие слои общества. Кроме второй и третей характеристики необходим еще и охват антиавторитарными идеями значительной части движения – иначе, скорее всего, повторится судьба Чечни – кровавые конф-
ликты между разными фракциями элиты, безнаказанность бандитизма, жертвами которого становятся часто именно этнические меньшинства, хотя и не только они.
Анархическое сопротивление второй чеченской
Наверное, при отсутствии взрывов 1999 года антивоенное движение было бы унылым, но после их совершения антивоенного движения на улицах не было вообще. В итоге прошло 4 месяца после войны перед тем, как антимилитаристы набрались храбрости выйти на улицы, и первыми в Москве выступили анархисты в январе 2000 года (вроде бы до этого уже были жалкие пикеты в некоторых других городах). Скоро появились и другие силы (либералы и троцкисты), и возник вопрос о сотрудничестве – в этом плане в Москве и в Питере события развивались в разных направлениях.
В Питере все антивоенные силы, заинтересованные в уличной деятельности (анархисты, либералы, троцкисты) договорилось о совместном антивоенном пикете, где все присутствовали со своей политической символикой. В Москве либералы не хотели присутствия политической символики на пикете, но из-за характера лозунгов («переговоры с Масхадовым» вместо «никакой войны кроме классовой») еженедельный пикет, по сути, все-таки носил либеральный характер.
Вопрос о политических символах – тонкий, и, на самом деле, во множестве случаев в течение последних лет анархисты видели свою роль в общественных движениях Москвы как защитники автономности протестов от политических партий, и тогда целесообразно настаивать на отсутствии атрибутики вообще, в том числе анархической. Но когда предлагаемые решения проблемы носят уж очень идеологический характер, как это получилось с Кавказом, анархическая символика на акциях помогает подчёркивать различия между решениями, предлагаемыми анархистами, и решениями, предлагаемыми другими политическими силами.
Самостоятельные анархические антивоенные пикеты накрылись уже весной 2000 года, и немногие анархисты стали ходить на еженедельный либеральный пикет. «Автономное Действие» в Москве сделало вывод, что участие в еженедельном пикете, скорее всего, носит только символический характер, малочисленность пикета не соответствует широкому распространению антивоенных позиций в обществе (против разных аспектов политики Путина на Северном Кавказе, согласно общественным опросам, в разные периоды выступали 30-50% населения).
Поэтому московская группа «Автономного Действия» стала искать альтернативные пути противостояния происходящему – в начале сбор гумпомощи и распространение наклеек с адресом антипризывного сайта казанских анархистов, потом (с 2004 года) организация фестиваля «День дезертира». Осенью 2002 года, после захвата заложников на Дубровке боевиками и в отравления их газом, антивоенное движение в Москве поднялось в последний раз, но ненадолго, и последним ударом по «антивоенному единству» стало предоставление платформы на акциях московского антивоенного комитета такому кандидату в президентской гонке 2004 года, как Ирина Хакамада. Антивоенные настроения в российском обществе всегда были распространены намного шире узкого слоя либеральной интеллигенции, которая сочувствует США и неолиберализму, но либеральные участники комитета этого не понимали, и, в итоге, «Автономное Действие» в Москве разорвало сотрудничество с ними уже во второй раз, и на этот раз навсегда.
Мы никогда не были готовы сотрудничать с либеральными партиями, которые участвовали или хотели участвовать в выборах, но мы были готовы сотрудничать с общественными организациями без четко определённой партийной позиции, даже если сами участники этих движении были по взглядам преимущественно либералы. Но, к сожалению, они не увидели ценности в сохранении политической независимости своих общественных организаций.
Фестиваль “День дезертира”
«Автономное Действие» в Москве уже в 2001 году выбрало борьбу против призыва в качестве тактического метода антивоенной борьбы – естественно, мы никогда не поддерживаем профессиональную армию, мы поддерживаем черную гвардию добровольных антибуржуйских ополчений, но вокруг вопроса призыва интересы рабочего класса России и Чечни встречаются как никогда. Лейбл фестиваля «День дезертира», организуемого ежегодно с 2004 года – созна-
тельный эпатаж, естественно, мы далеко не всегда можем поддерживать военнослужащих, которые бегут из частей, вооружённые автоматами и убивая сослуживцев. Но мы можем их понять, и другие, более рациональные формы дезертирства, по большому счету, являются единственной правильной реакцией на империалистические войны.
Мы выбрали такой лейбл, чтобы в самом начале заявить о своей принципиальной позиции, и о неприемлемости реформ вроде «профессиональной армии» или «переговоров с Масхадовым». Только путем заявления подобной принципиальной позиции мы могли развить автономный анархический политический субъект в России, который иначе бы потерялся в общей массе либералов и «леваков» («левизна» которых часто под сомнением).
«День дезертира» стал успешным, первоначальной целью не было создание традиции, но в этом году его организовали уже в пятый раз (на этот раз впервые не в Москве, а в Кирове), также он стал эталоном других межгородских анархических мероприятий, которые вскоре за ним последовали («Черный Петроград», «Либертарный форум», «Гендерный фестиваль» и т.д.). В итоге, эти междугородние анархические мероприятия фактически заменили съезды формальных анархических организаций как главную форму межгородского общения движения. Таким образом, в корне трансформировалось анарходвижение в России. Несомненно, после очередного «Дня дезертира» у людей гораздо больше позитивных настроений, чем после очередного антивоенного пикета, то есть, по крайней мере, в этом плане новую тактику можно считать успешной.
Но, несмотря на то, что первый «День дезертира» был организован в память 60-летия чечено-ингушской депортации, постепенно антивоенная тема ушла на задний план, и в этом году в Кирове поднимали, фактически, исключительно антиармейские вопросы. Интенсивность конфликта уже много лет идет на спад – чем меньше новостей о диверсионных атаках, тем меньше эта тема занимает кругозор анархистов и общества в целом. И, парадоксальным образом, поражение анархистов в антивоенном плане открыло пути новым направлениям деятельности. Поскольку северокавказский вопрос уже не является темой ежедневных новостных выпусков, анархисты могут заниматься более плодотворными темами, чем антивоенная, которая с самого начала была осуждена на поражение. И это потому только, что одно «существенное меньшинство» антивоенно-настроенного населения ничего не значит, если не существует политических структур, которые способны организовать их к сопротивлению.
Поражение кампании против второй чеченской
Но ни у анархистов, ни у других антивоенных сил таких структур нет. Во времена перестройки анархическое движение связало свою судьбу с общим демократическим движением, и совершенно не было готово на скорость и дерзость ельцинского предательства. К чести либералов надо сказать, что самые вменяемые из них также поняли происходящее уже за-
благовременно до начала Первой чеченской, но после долгих лет построения либералами базы поддержки лжедемократическому сегменту номенклатуры, массовка осталась либо там, либо в полной апатии, пытаясь выжить в условиях шоковой терапии начала 90-х. Менять курс было уже поздно, и анархисты, «демократические леваки» и «совестливые либералы» оказались без массовой базы, что уже стало заметно во время Первой чеченской. Тогда, несмотря на антивоенную пропаганду в СМИ олигархов, которые надеялись получить дивиденды от Ельцина, оказывая на него давление путем антивоенной пропаганды, выступленния даже во время Первой чеченской были довольно вялыми. Ну и вообще, в истории фактически не было случаев, когда удавалось остановить империалистские войны одними только усилиями гражданского населения самых империалистских стран, а в случае победы антиимпериалистических движений (например, во Вьетнаме) наибольший вклад всегда делали сами партизаны.
Но в Чечне с самого начала баланс сил был слишком неравным – победа сопротивления в первой войне уже была чудом, которое не имеет аналогов в современной истории, и не удивительно, что не удалось его повторить. И причины поражения во второй войне были установлены уже в 1996 году, когда в Хасавюрте не удалось добиться признания суверенности Ичкерии Россией. То есть, несмотря на чудо-победу на грани возможного в Грозном, в дипломатическом плане сопротивлению удалось добиться только ничейного результата. Это, скорее всего, было понятно и Масхадову, и Басаеву, – но только второй решился на продолжение войны, а первый понял, что ресурсы сопротивления уже полностью исчерпаны, и он, скорее всего, понадеялся, что какое-то чудо развалит Россию, что позволило бы Ичкерии установить не-
зависимость de jure. Но чуда не случилось.
Сейчас из-за успешной «локализации» конфликта (когда его ведут в основном местные армейские и милицейские структуры) жители остальных регионов РФ – лишь небольшая часть от потерь, и еще меньшая среди них доля призывников. Также благодаря укреплению контроля над СМИ, война фактически исчезла с телеэкранов, и для большинства населения уже закончилась совсем. Единственная надежда сопротивления сейчас – какой-то глобальный кризис, который полностью развалит Россию и остановит приток бюджетных дотаций местной элите, но текущий энергетический кризис наоборот усиливает федеральную власть в России.
Но упрямство питерских анархистов (фактически 8 лет непрерывных еженедельных антивоенных пикетов) тоже заслуживает похвалы. Было время, когда в пикетах участвовали меньше, чем 10 человек, и все это казалось совершенно безумным мазохизмом, но в какой-то момент численность начала расти, и в 2004-2007 годах в пикетах регулярно участвовали десятки людей, из которых иногда 90% были анархистами. Питерским анархистам удалось завоевать открытое городское пространство, куда регулярно в течение двух часов любой горожанин смог бы приехать и общаться с анархистами, и покупать анархо-литературу. Это достижение стало возможным только путем упрямства и самопожертвования – неоднократно приходилось защищать пикет, сначала с палками, потом с ножами, и, в итоге, один из старших его участников был вынужден покинуть пределы РФ, когда спецслужбы стали использовать один из случаев самообороны как повод для репрессий против движения в целом.
В итоге самые главные проблемы питерского анархического антивоенного движения были связаны не с его тактикой, а с его позицией, конфликт вокруг которой, в итоге, расколол и полностью уничтожил самую старую на тот момент в бСССР анархо-группу, Питерскую Лигу Анархистов.
Позиция ПЛА всегда была позицией поддержки сопротивления (с неодобрeнием нападения против мирного населения) и объединения всевозможных антипутинских сил, исходя из предположения «сначала свергнем власть, а уж потом между собою разберемся». Московское «Автономное Действие» никогда не одобряло подобного «экуменизма», мы исходим из позиции,
что никто нас не будет поддерживать, если мы не можем предложить достойной альтернативы существующему строю. Если мы когда-нибудь и действовали вместе с другими антивоенными
силами, то это всегда происходило только при условии, что у нас будет возможность четко представить анархическую альтернативу империалистическим войнам – братство пролетариата обоих сторон фронта против их собственных начальников.
Позиция ПЛА частично обоснована, поскольку в 1994 году все-таки именно федеральная власть начала масштабное кровопролитие – внутренний конфликт в Чечне существовал до этого, но Ельцин увеличил его масштабы до совсем иного уровня. Но чтобы убедить людей в наличии альтернативы, нужно им ее представить – ведь человеку, который наблюдает общий фронт со стороны, как правило, кажется, что эти люди сами не знают, чего хотят. Сегодня вся российская оппозиция разваливается, и только анархисты на подъеме – это говорит о том, что мы были правы, когда настаивали на сохранении собственных позиций в отношении чеченской войны. Если бы анархисты стали сливаться с общим фронтом в 2000 году, нас уже давно не было бы вообще.
Поражение – это не конец борьбы
То есть, несмотря на то, что главными виновниками эскалации конфликта были именно российские власти, «Автономное Действие» Москвы никогда не могло поддерживать ни национальные, ни исламистские элементы чеченского сопротивления. Мы всегда предлагали третий вариант – объединение пролетариата обоих сторон конфликта против своих вождей. Но на практике после начала первой войны такой «третий субъект» фактически отсутствовал на месте, люди в Чечне были слишком заняты выживанием, чтобы противостоять своей власти.
В какой-то степени сейчас такой силой является движение против исчезновения людей, в котором в основном участвуют невооружённые женщины (судья по всему, на Кавказе считают, что мужикам не достойно что-либо спрашивать у власти без автомата). Также таким движением, несомненно, являются жители Махачкалы, которые после распада городской инфраструктуры из-за коррумпированности власти прошлой зимой строили баррикады, судья по всему, стихийно. Но, к сожалению, несмотря на то, что такие инициативы уже не первый год наблюдаются на Северном Кавказе, анархическое движение России пока оказалось недостаточно сильным, чтобы создавать с ними достойный союз. Третий пример – движение матерей Беслана, но из-за общей политической ситуации, которая не допускает наказания людей, открывших штурм и стрелявших по детям-заложникам танками, оно постепенно направляется в безопасное для власти антиингушское русло.
И при отсутствии подобной третьей силы позиция поддержки сопротивления, конечно, весьма привлекательна для радикалов, поскольку бородатые мужики с автоматами, несомненно, гораздо более круты, чем бабушки с плакатами о своих похищенных сыновьях. В итоге, некоторые люди
из ПЛА нашли общий язык с антиарабским и антирусским расистом Борисом Стомахиным, который сейчас отбывает срок, в том числе и за «унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам национальности», которое он, несомненно, совершал (это, конечно, не означает, что человека следует сажать за одни только высказывания, лично по мне, ему бы хватило умеренного физического воздействия).
Русофобия является если не неизбежным, то, по крайней мере, логическим концом на пути поддержки националистического и исламистского сопротивления, и в последствии пути анархистов разошлись, и антивоенный пикет в Питере унаследовали в основном те, кто в начале отказались от интернационализма, а потом от анархизма вообще. Некоторые питерские товарищи нас критиковали за то, что в Москве мы «недостаточно уделяли внимания антивоенной теме» – но вместо ритуальных протестов мы пытались найти какие-то творческие и новые подходы, очаги влияния – мы не отрицали важности чеченской тематики, но сама актуальность темы ещё не определяет приоритетов. В плане рeзультативности невозможно считать успешным ни «питерский», ни «московский» подходы, но, по крайней мере, в Москве нам удалось установить определённые способы действия, которые позже помогли местному анархическому движению выйти в плане действий на следующий уровень.
Кроме путей АД-Москва и ПЛА, был ещё и третий путь противодействия – анархосиндикалистский московский МежПрофессиональный Союз Трудящихся делал антивоен-
ные наклейки и присутствовал на некоторых антивоенных акциях, но никогда не делал ставку на антивоенные акции как таковые. Они предпочли искать конфликты на рабочих местах и в других областях, которые открыли бы пути развития такому общественному движению, которое смогло бы сделать вызов капитализму и таким последствиям капитализма, как империалистические войны. Тут есть определённый смысл – понятно, что антивоенные акции в том виде, как они проходили, были скорее символическими акциями для очистки совести, чем реальным способом остановить войну. С другой стороны, нет сомнений в том, что в начале 2000-х годов чеченская проблема была самой актуальной в обществе, и АД-Москва решило, что было бы преступлением молчать, несмотря на отсутствие возможностей реально влиять на происходящее. Путем организации акций протеста, мы, по крайней мере, смогли прервать ситуацию полного молчания в обществе, и найти тех немногочисленных людей, которые также были готовы действовать вопреки всем шансам. Легко быть анархистом в революционные времена, но подвиги, которым мы сейчас завидуем, легки, когда у тебя есть ощущение поддержки и одобрения обществом вокруг тебя. Самые настоящие революционеры – это как раз те, кто не падает духом даже в условиях полной изоляции. Мы почти пали духом, но все-таки выдержали это испытание.
Антти Раутиайнен