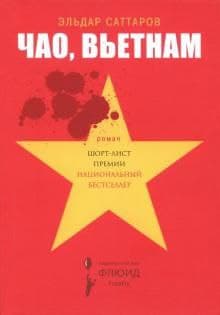
В 2000-х Эльдар Саттаров был активистом «Автономного действия», теперь он — известный казахстанский писатель, обладатель второго места российской премии «Национальный бестселлер» 2016 года. В его автобиографической трилогии «Теряя наши улицы», «Чао, Вьетнам» и «Нить времен» анархизму и другим леворадикальным течениям второй половины XX века, наверное, уделено больше места, чем где-либо ещё в русскоязычной художественной литературе. В колонке для будущего 40 номера «Автонома» Саттаров рассказывает о своем творчестве.
Пару лет назад моей маме по межгороду позвонил далёкий родственник, который с удивлением узнал, что я стал писателем, из «Литературной газеты», чьим преданным подписчиком он остаётся с незапамятных времён. В ЛГ мои книги были упомянуты как «докуфикшн Эльдара Саттарова». Термин меня тогда чрезвычайно заинтриговал и в процессе изучения я вдруг осознал, что невольно оказался в комичной ситуации мольеровского Журдена, который в возрасте далеко за сорок вдруг обнаружил, что всю свою жизнь разговаривал прозой!
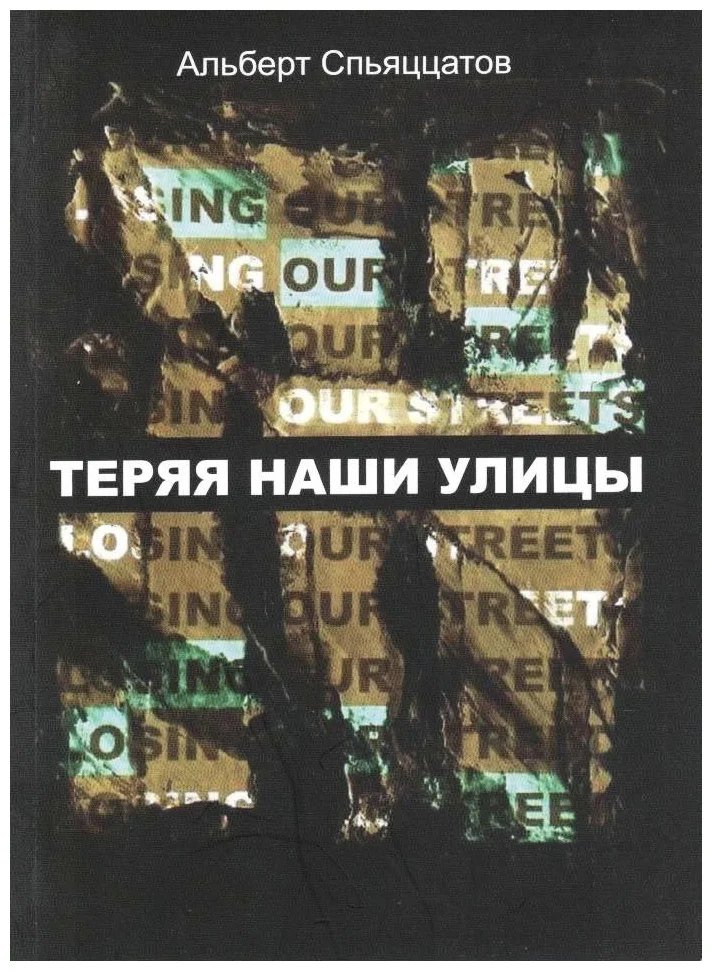 Вот так и меня в тот раз — ровно посередине десятилетней работы над моей недавно законченной трилогией — вдруг осенило, что мои книги практически полностью попадают по своим формальным критериям под канон этого макрожанра, весьма динамично развивающегося в наше время, хотя при этом давно уже солидно укоренённого. У явления довольно много названий – докуфикшн, faction (от слова «факт»), документальный роман, мокьюментари и т.д. Собственно, основоположником докуфикшн по праву считается выдающийся американский писатель Трумэн Капоте, хотя на этот счёт существуют и иные мнения. Кто-то, например, полагает, что первым в современной литературе документальным романом была «Надя» незабвенного Андре Бретона. Этот автор служил мне одной из путеводных звёзд ещё задолго до моего литературного дебюта, когда я был далёк от того, чтобы писать прозу и тем более чувствовать себя Журденом. Чего стоит один только эмоциональный пассаж Бретона из «Манифеста сюрреализма» о бесполезности для читателя каталогизирующих описаний, вроде абзаца про жёлтые обои и горшки с геранью в комнате-шкафе Родиона Раскольникова! Между прочим, именно в «Наде» Бретон говорит буквально следующее: «К великому счастью, дни психологической литературы с романической интригой сочтены. Я всё больше убеждаюсь, что удар, от которого ей уже не оправиться, был нанесён Гюисмансом».
Вот так и меня в тот раз — ровно посередине десятилетней работы над моей недавно законченной трилогией — вдруг осенило, что мои книги практически полностью попадают по своим формальным критериям под канон этого макрожанра, весьма динамично развивающегося в наше время, хотя при этом давно уже солидно укоренённого. У явления довольно много названий – докуфикшн, faction (от слова «факт»), документальный роман, мокьюментари и т.д. Собственно, основоположником докуфикшн по праву считается выдающийся американский писатель Трумэн Капоте, хотя на этот счёт существуют и иные мнения. Кто-то, например, полагает, что первым в современной литературе документальным романом была «Надя» незабвенного Андре Бретона. Этот автор служил мне одной из путеводных звёзд ещё задолго до моего литературного дебюта, когда я был далёк от того, чтобы писать прозу и тем более чувствовать себя Журденом. Чего стоит один только эмоциональный пассаж Бретона из «Манифеста сюрреализма» о бесполезности для читателя каталогизирующих описаний, вроде абзаца про жёлтые обои и горшки с геранью в комнате-шкафе Родиона Раскольникова! Между прочим, именно в «Наде» Бретон говорит буквально следующее: «К великому счастью, дни психологической литературы с романической интригой сочтены. Я всё больше убеждаюсь, что удар, от которого ей уже не оправиться, был нанесён Гюисмансом».
Как бы то ни было, но именно произведение Капоте «Хладнокровное убийство», было впервые опубликовано с подзаголовком «документальный роман» (англ. non-fiction novel) в 1966-м году. Книга была составлена из серии репортажей, написанных Капоте для еженедельника New Yorker в виде журналистского расследования немотивированно жестокого убийства из корыстных побуждений благополучной фермерской семьи в глуши Канзаса. По чисто хронологическому совпадению она стала лишь первой из череды глубоких, информативных и подчас по-своему циничных книг за авторством Хантера Томпсона, Тома Вулфа, Нормана Мейлера и многих других, которые принято объединять под зонтичным термином «новая журналистика». Перед читателем открылся тогда живой и яркий мир, не нашедший себе места в пресном литературном мейнстриме шестидесятых и семидесятых годов: от байкерских банд и общин хиппи до колонн антивоенных манифестантов, марширующих на Пентагон, и погребальных процессий борцов за гражданские права; от разоблачений скрытой механики Уолл-стрита и Голливуда, до ироничных срезов из сонной жизни консервативного, расистского Юга. «Новая журналистика» стала подлинным извержением контента в застоявшихся водах американской литературы.
Главным идеологом «новой журналистики» был Том Вулф. Поначалу он выступал с иконоборческих позиций – почти как Бретон до него, или Роб-Грийе в одно с ним время — отталкивался от очередного постулата о гипотетической «смерти романа», т.е. в роли ниспровергателя устоявшихся традиций. Надо сказать, что такие темы, как «смерть автора», «смерть романа» или «смерть искусства» в ХХ веке поднимались самыми разными теоретиками регулярно, превратившись в итоге в достаточно избитый рефрен. Том Вулф напрямую говорил о необходимости «свергнуть роман с трона» или «отобрать у романа пальму первенства» как о насущной задаче новой литературы. Полной замены романа новыми нарративными формами, разумеется, не произошло. Более того, в конце восьмидесятых Том Вулф сам начал писать романы. Причём особых противоречий со своим предыдущим настроем автор в этом переходе явно не видел. В ноябрьском номере журнала Harper’s Magazine 1989-го года Том Вулф опубликовал свой программный манифест "За новый социальный роман". Он объяснял в этой статье, что для него переход от книг в стиле «новой журналистики» к форме романа стал лишь качественным скачком. Он предсказывал, что будущее романистики как художественного жанра лежит за высоко реалистичной прозой, основанной на технике репортажа, документирующего состояние общества на каждый данный момент. Интересно, что семь лет спустя, в 1996-м, на страницах того же самого журнала — Harper’s Magazine — другой американский писатель, Джонатан Франзен, рассуждая о перспективах социального романа, выдал Тому Вулфу достаточно высокомерную отповедь, заметив, что «телевидение убило социальный репортаж» точно так же, как кинематограф ранее расправился с пейзажной живописью и портретистикой. В этом Франзен несомненно отталкивался от теорий своего близкого друга Дэвида Фостера Уоллеса, чей глубокий анализ всепоглощающей роли телевидения в массовой культуре и общественной жизни США стал идейной основой для его знаменитого романа «Бесконечная шутка». Поразительно, но сегодня, каких-то четверть века спустя, никому, наверное, и в голову не придёт говорить о сколько-нибудь центральной роли телевидения в нашей жизни.
Поэтому отчасти я склонен согласиться скорее с Томом Вулфом, если отвлечься от рассуждений о первенстве, иерархии или главенстве тех или иных текстуальных типологий в современном словотворчестве. Сознательная гибридизация и метисация литературных жанров и форм, в частности, документалистики с беллетристикой, в самом деле, наблюдается во всём мире, в самых разнообразных культурных контекстах, будучи обусловленной, по-видимому, более или менее схожей мотивацией рассказчиков. Приведу лишь пару наглядных и своеобычных примеров.
В 1997-м в Бразилии вышел роман Паулу Линса «Город бога». К сожалению, эта книга относительно малоизвестна и её перевод (как и второй книги Линса «С тех пор, как самба – это самба») пока не интересует российских издателей. Гораздо известнее снятый по её мотивам фильм, удостоившийся в 2004-м нескольких номинаций на премии «Оскар» в США. Роман был создан на основе материалов антропологических исследований, которые автор проводил в 1986-93 гг. на территории одноимённой фавелы Рио-де-Жанейро в академических целях. В какой-то момент, Линс решил придать форму романа своим научным изысканиям в области социально-экономических изменений родного района со дня его основания, в результате чего получилось жуткое и бескомпромиссное литературное свидетельство о феномене, который сам Линс именует «нео-фавелой», возможно, гораздо более красноречивое и запоминающееся для эмпатического читателя, нежели любой из самых кровожадных репортажей от CNN.
Самым важным документальным романом XXI века, пожалуй, стала «Гоморра» неаполитанца Роберто Савиано. Мощь данного произведения заключается не в чём ином, как в той самой гибридной и метисной форме, избранной автором для изложения собранных фактов и передачи собственного посыла глобальной аудитории. Савиано действительно внедрялся в качестве пешки на подхвате в один из кланов каморры и со времени публикации романа живёт под круглосуточной охраной карабинеров. Не подлежит никакому сомнению достоверность историй из его личного опыта, таких как, например, выход в открытое море на деревянной лодке за очередной партией контрабандных кроссовок из КНР, за которым следует пространное рассуждение Савиано о природе теневого рынка, функционирующего в Кампании. Он сравнивает порт Неаполя с библейским игольным ушком, через которое на рынок ЕС ежесуточно просачивается «несметное количество китайских товаров», свидетельствуя о том, что Великий шёлковый путь на европейский рынок, официально прокладываемый правящей партией КНР, возможно, давно уже на деле существует в таких серых зонах, как южное Тирренское побережье. Сам Савиано называет себя продолжателем традиций Трумэна Капоте, автором документальных романов, «достоверных на 100%», особенно когда даёт интервью в США. В свою очередь, американские журналисты нередко развлекаются тем, что подлавливают его на различных очевидных несоответствиях эпизодов «Гоморры» действительности. Правда ли, задаются они вопросом, что Савиано действительно плавал в обнимку с холодильником в токсичных водах оврага городской свалки, выкрикивая горькие проклятия, как описано в эпилоге «Гоморры»? Впрочем, нашлись и те, кто счёл уникальный стиль Савиано скорее преимуществом, чем недостатком. В 2008-м сначала в Италии, а потом и за океаном, разгорелась оживлённая полемика вокруг «Меморандума» о «новом итальянском эпосе», опубликованного леворадикальным коллективом «Ву Минь» из Болоньи. Эти ребята окрестили «Гоморру» ННО, «неопознанным нарративным объектом», по аналогии с НЛО. Они обратили внимание на обильное использование вымысла, богатство и разнообразие литературных приёмов, рассеянных в текстуре документального романа Савиано. Например, страницы, посвящённые его взаимоотношениям с отцом, или пронзительное описание их случайной встречи на занятой римской улице, могут служить прекрасным образцом техники классического «бильдунгсромана». С другой стороны, сцены жестоких убийств и прочих злодеяний, совершённых каморрой, всегда описываются в «Гоморре» от первого лица, словно бы автор постоянно незримо присутствует на месте преступления, хотя вполне очевидно, что этого в действительности быть не могло.
Коллективный писатель «Ву Минь» заявил тогда, что ННО, подобные «Гоморре», или детективам бывшего римского судьи Джанкарло де Катальдо, или, наконец, собственным произведениям «Ву Миня», стали одним из отличительных признаков «нового итальянского эпоса» времён Второй республики. Обсуждение этого «Меморандума» буквально захватило тогда публичное медиа-пространство страны, от левой блогосферы до центральных органов печати, таких как римская «Репубблика». Суть критики в целом сводилась к тому, что авторы, якобы, пытались выдать себя за основателей литературной школы «нео-неореализма», игнорируя работу всех писателей, существовавших между классическим «неореализмом» времён Моравиа, Павезе или Пазолини и самими собой. На это товарищи из «Ву Миня» возражали, что, к примеру, в их романе «56» одна из повествовательных линий ведётся от лица телевизора, украденного неаполитанской шпаной с военной базы США. Телевизор, по сути, рассказывает читателю как о событиях, которые транслирует сам, таких как суд над четой Розенбергов, так и о перипетиях собственных злоключений после кражи. «Ву Минь» справедливо отмечал, что всё это отстоит довольно далеко от канонов Чезаре Дзаваттини. Кроме того, он указывал, что «Меморандум» был лишь по ошибке принят критикой за очередной манифест некоей «новой школы», скорее это был стоп-кадр литературной туманности, существовавшей в Италии со времени основания Второй республики в 1994-м (распад СССР вызвал политические катаклизмы в т.ч. далеко за пределами СНГ) до момента публикации документа в конце нулевых. После этого, как считает коллективный автор, «вена «нового итальянского эпоса» засохла», и, тем не менее, он с удовлетворением наблюдает и констатирует массовое появление «неопознанных нарративных объектов» во всём мире.
Когда я читал «Топоры войны», один из первых романов «Ву Миня», я был потрясён практически идеальным параллелизмом между этим текстом и своей собственной книгой «Чао, Вьетнам!». Наши романы – если не близнецы-братья, то точно кузены. Перекликаются не только темы, образы, идеи, персонажи и сюжеты, но и, что самое главное, выбранный стиль и манера повествования. Когда я брался за свой второй роман, основанный на реальной истории невольного диссидентства моего отца, бывшего партизана, получившего с родины повестку в трудовой лагерь для перевоспитания, пока он учился в Плехановском университете, я, конечно, знал, как должен выглядеть традиционный исторический роман. Но в процессе работы я столкнулся с непреодолимым препятствием – я был буквально неспособен рассказывать эту историю посредством традиционного исторического романа, у меня на это не хватало моральных сил, мне это казалось нечестным. На помощь мне пришли навыки прошлой работы над журналистскими текстами. Какое-то время я работал редактором в газете, где от раза к разу меня просили написать какой-нибудь, как правило, большой аналитический материал для разворота с фотографиями и выносом заголовка на передовицу. Однако в ещё большей степени мне пригодились навыки работы над статьями для анархо-синдикалистской и анархо-коммунистической прессы, которые я писал в первой половине нулевых по просьбе товарищей из разных стран. Получившийся в итоге текст романа «Чао, Вьетнам!» самому мне поначалу показался тяжеловесным гибридным монстром, перегруженным аллюзиями и пародийными оборотами, странным плодом искусственного скрещивания стилей из пробирки, найденной наощупь в потёмках тотального творческого одиночества и отчуждения.
Каким же откровением для меня стало, когда я добрался до «Топоров войны», и, с радостью истинного Журдена, уже в предисловии прочитал, что этот роман, опубликованный на пятнадцать лет раньше моего, представляет собой «неопознанный нарративный объект» и состоит на одну треть из мемуаров бывшего партизана Витальяно Равальи, на одну треть из романической линии вымышленного адвоката, который стремится встретиться с Равальи и ещё на одну треть из эссеистики самого «Ву Миня» на тему антиимпериалистических войн в Индокитае. Приключения итальянского коммуниста Витальяно Равальи, которого партия в пятидесятых тайно переправляет сначала на военную базу в советской Киргизии, потом в составе интернациональной бригады из Западной Европы в джунгли Лаоса, перекликаются с судьбой моего отца как во времени, так и в пространстве. Кстати, в эпилоге Равальи знакомится в вестибюле московского «Метрополя» с Казимиром Кобелянским, переводчиком Коминтерна, который, в частности, переводил перепалку Бордиги со Сталиным на их легендарной мартовской встрече 1926-го года в Москве. Эта дискуссия подробно описана в моём последнем романе «Нить времён».
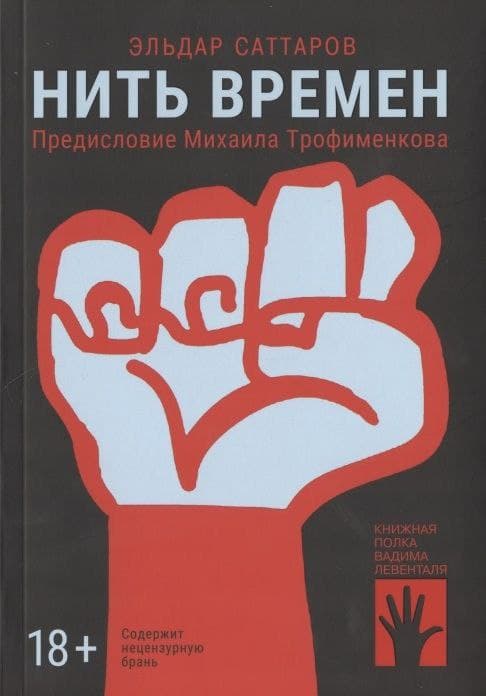 К сожалению, я не знал, что не одинок в своих поисках, когда носил рукопись «Чао, Вьетнам!» по различным редакциям. Когда меня спрашивали в каком жанре написана книга, я отвечал: «в жанре псевдо-соцреализма» . В самом деле, довольно часто, при описании советского прошлого легче всего было использовать наивные, но пафосные штампы эпохи застоя, над которыми, наверное, большинство моих ровесников привыкло потешаться ещё со школьной скамьи. Просто это делалось без патологической ненависти, присущей шестидесятникам и прочей перестроечной интеллигенции. Мой роман получился гибридным буквально во всём, и именно эта его метисная природа вызвала нешуточные споры между членами Большого жюри, когда он был дважды номинирован на премию «Национальный бестселлер-2016». Ведь это уже в наши дни некогда модный термин «пост-ирония» добрался из англосаксонского литературоведения до русскоязычной среды, превратившись чуть ли не в мем из соцсетей. Тогда же, пять лет назад ни у кого просто в голове не укладывалось, что автору может быть дозволено шутить, оставаясь искренним; что смех свозь слёзы становится едва ли не единственной адекватной интонацией эпохи позднего капитализма. Один из критиков возмущался как раз по той причине, что при прочтении у него очень долго не получалось определиться, то ли автор «прикалывается» и тогда, дескать, всё нормально, ибо есть респектабельный «постмодернизм», либо он пишет искренне и в таком случае это полный отстой и атавистический пережиток проклятого советского прошлого.
К сожалению, я не знал, что не одинок в своих поисках, когда носил рукопись «Чао, Вьетнам!» по различным редакциям. Когда меня спрашивали в каком жанре написана книга, я отвечал: «в жанре псевдо-соцреализма» . В самом деле, довольно часто, при описании советского прошлого легче всего было использовать наивные, но пафосные штампы эпохи застоя, над которыми, наверное, большинство моих ровесников привыкло потешаться ещё со школьной скамьи. Просто это делалось без патологической ненависти, присущей шестидесятникам и прочей перестроечной интеллигенции. Мой роман получился гибридным буквально во всём, и именно эта его метисная природа вызвала нешуточные споры между членами Большого жюри, когда он был дважды номинирован на премию «Национальный бестселлер-2016». Ведь это уже в наши дни некогда модный термин «пост-ирония» добрался из англосаксонского литературоведения до русскоязычной среды, превратившись чуть ли не в мем из соцсетей. Тогда же, пять лет назад ни у кого просто в голове не укладывалось, что автору может быть дозволено шутить, оставаясь искренним; что смех свозь слёзы становится едва ли не единственной адекватной интонацией эпохи позднего капитализма. Один из критиков возмущался как раз по той причине, что при прочтении у него очень долго не получалось определиться, то ли автор «прикалывается» и тогда, дескать, всё нормально, ибо есть респектабельный «постмодернизм», либо он пишет искренне и в таком случае это полный отстой и атавистический пережиток проклятого советского прошлого.
Несмотря ни на что, книга прошла в финал, и во время церемонии голосования конферансье Артемий Троицкий публично обратился ко мне со сцены, сказав, что я единственный автор из шорт-листа, с которым ему хотелось поговорить лично, чтобы понять каково процентное соотношение «постмодернистской» иронии и искренности в моём произведении. Мы действительно потолковали потом в кулуарах, и я навскидку дал ему приблизительный расчёт «50/50», приведя некоторые примеры. Оговорюсь сразу, что популярная нынче тема «преодоления» или «смены постмодернизма», равно как и «литературного постмодернизма» самого по себе, представляется мне ещё более пустопорожней, чем темы «смерти романа», или «конца истории», например, которые, чувствую, будут обсуждаться ещё довольно долго (пока караван вселенной неутомимо продолжает свой ход вещей). Тем не менее, в романе «Чао, Вьетнам!» действительно присутствует некоторое количество элементов, которые сейчас принято формально классифицировать именно в этом ключе, как то: интертекстуальность, метапроза, полифункциональная пародийность и прочая, и прочая.
Так, к примеру, в моей книге появляется Олден Пайл, персонаж напрямую заимствованный из Грэма Грина, причём в сюжет введена именно та часть его истории, которая была намеренно опущена в «Тихом американце» – о том, что же на самом деле произошло с ним на мосту в форме буквы «Y», перекинутом через реку Сайгон. Тот же самый Олден Пайл, кстати, действует и в «Нити времён», последней части моей трилогии. Далее в романе содержится длинный монолог Пол Пота, на самом деле склеенный из фрагментов различных эссе американского анархо-примитивиста Джона Зерзана. Подобные détournement, разбросанные там и сям в тексте, я позволял себе не столько просто ради хохмы, сколько в качестве авторского комментария к гармоничному созвучию некоторых тупиковых направлений в левой мысли. При описании акции вымышленной организации «Красный сектор» у здания Всекитайского собрания из-за убийства своего шанхайского авторитета, я, разумеется, отдавал себе отчёт, что хунвэйбины в отсталом Китае времён «культурной революции» вряд ли вооружались для уличных противостояний «новенькими бейсбольными битами» и заматывали лица красными банданами. Просто весной 2014-го я, совершенно случайно, оказался в окрестностях киевского Майдана Незалежности в тот день, когда «Правый сектор» проводил там акцию протеста из-за убийства Сашка Билого, окружив здание Верховной Рады. Зарисовку этой многозначительной сцены я решил включить в главу, над которой работал, пусть иносказательно. Само собой, я был далёк от каких-либо сравнений между политическими повестками хунвэйбинов и «правосеков». Данная параллель призвана была послужить опять же авторским комментарием к общей и неизменной природе политического активизма и его ударных отрядов, умело используемых всевозможными историческими личностями в борьбе за власть. В этом, кстати, заключается, возможно, самое существенное различие между «Топорами войны» и моим текстом. У «Ву Миня» образ Хошимина – это биографический портрет революционного вождя вьетнамского народа. У меня же – это, в первую очередь, волевой персонаж, который слепо борется всеми доступными средствами только и исключительно за власть, или же за личный «контроль над суверенитетом» (мой Хошимин нередко мысленно апеллирует к Карлу Шмитту), хотя он и вполне искренне верит, что делает это ради блага народонаселения своей страны. Вот что я успел рассказать Троицкому в десятиминутном интервале борьбы «всех против всех» за тарелку тёплого «второго» в буфете питерской «Астории». В целом же, пласт интертекстуальных аллюзий в романе «Чао, Вьетнам!» достаточно обширен, хотя и явно оказался рассчитан на несравненно более эрудированных и самостоятельно мыслящих читателей, чем современный литературный истеблишмент РФ, воспринявший мою книгу в штыки.
Узнав столь много нового и необычного в ходе работы над моей третьей книгой, «Нить времён», я, конечно же, намеренно заканчивал её в качестве личного сознательного вклада в вышеупомянутое нашествие «неопознанных нарративных объектов» на землю ………………………………………………………………, и вновь попал впросак, с новой силой ощутив себя в роли мольеровского Журдена, т.к. мне сразу же начали сообщать, что у меня получился «роман идей».
Ещё одна богатейшая литературная традиция, ещё один досадный пробел в моих познаниях.
Эльдар Саттаров




Добавить комментарий