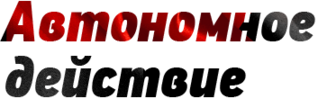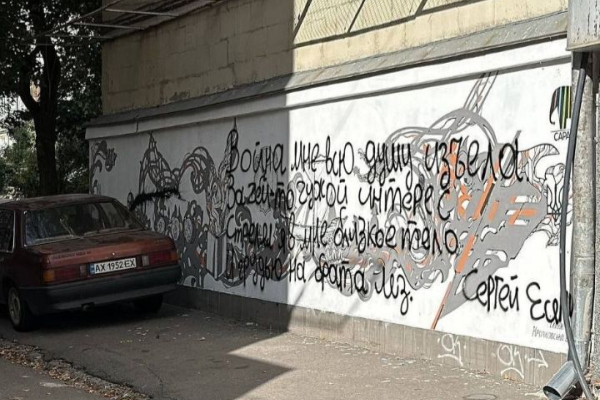Центральный вопрос анархизма
8 января, 2018 - 17:24 - Michael Shraibman
Анархистское общество есть бесклассовое безгосударственное общество, основанное на принципах прямой демократии (самоуправления). Это означает, что оно представляет собой ассоциацию (федерацию, добровольный союз) автономных трудовых коллективов, организованных по месту работы и месту жительства. Наемный труд и государственная бюрократия отсутствуют. Самоуправляющиеся коллективы работников принимают решения о том, что, как и для кого производить, по каким принципам и правилам устроить жизнь в обществе. Отсюда центральный вопрос анархизма. Как перейти к такому обществу от общества современного?
Пережив опыт Первой русской революции 1905-1907 гг многие русские анархисты осознали, что одной агитации анархистам недостаточно для того, чтобы достичь своих целей. Человек не является стихийным анархистом, а если в чем-то и является, то не настолько, чтобы не идти за политическими партиями. Партии и политики предлагают дать им порулить страной, обещая светлую жизнь и многие люди верят им. Поэтому самый принципиальный для анархистов вопрос состоит в том, откуда в атомизированном обществе (где люди конкурируют за рабочие места), устроенном авторитарно, у работников возьмется опыт прямой демократии? Как и где им научиться самим управлять обществом? Без такого опыта не может быть социальной либертарной революции.
Откуда возьмется организация народная (здесь народ понимается в смысле Кропоткина, в смысле работников, которые не подвергают эксплуатации других работников) способная взять на себя (само) управление обществом вместо государства и партий? Работники ведь и надеются на партии, государство, производственный менеджмент и другие иерархически устроенные системы бюрократии не случайно. Они надеются на партии, государство и менеджеров на производстве именно потому, что сами не знают, как управлять обществом, не имеют ни нужного опыта, ни соответствующей организации.
В прошлом такой опыт самым широким слоям работающего населения давали революционный синдикализм и Советы работников. Поэтому в конце XIX - первой трети XX вв революционные синдикаты являлись силой, которая рассматривалась многими анархистами в качестве инструмента, способного осуществить подготовку к социальным преобразованиям в анархистском духе.
Революционные синдикаты (профессиональные объединения работников по отраслям и регионам) боролись в то время за увеличение зарплаты и улучшение условий труда методами прямого действия (нелегальные забастовки, занятие заводов в ходе забастовок и т.д.) и прямой демократии. Анархисты считали данное движение полем для агитационной и активистской работы и, одновременно, организационной основой, фундаментом будущего либертарного анархистского общества (федерации самоуправляющихся трудовых коллективов). Дело было не только в том, что в революционно-синдикалистском движении принимали участие сотни тысяч, а в определенные моменты даже миллионы людей. Разговор о революции является пустым, если нет опыта самоорганизации. Революция не произойдет, если нет широкого распространения в обществе навыков прямого действия и все всего боятся. Наконец, революция окажется бессмысленной, если на следующий день после нее работники, имеющие сильные организации, построенные на принципах власти общественных собраний (прямой демократии) и федерализма не смогут заново перезапустить экономику и всю общественную жизнь на новых принципах - принципах прямой трудовой демократии - если этого нет, люди просто начнут умирать от голода или снова доверятся политикам - только другим. Революционные синдикаты (профессиональные союзы рабочих по отраслям) были одновременно и школой прямой демократии, и инструментом самоуправления на следующий день после революции. Они воспринимались многими как эмбрион будущего общества. Можно отвергать все это, но тогда логично отвергать и анархизм, так как без подобной подготовки он невозможен. Последним движением такого рода была Польская Солидарность 1981-1982 годов.
В других странах схожую роль играли Советы работников - выбранные от разных предприятий межзаводские забастовочные комитеты, где действовало право отзыва собранием завода своего делегатов в любой момент, если он не исполняет наказ работников. Анархисты в XX столетии шли работать в такие структуры для того, чтобы спрямить их путь к анархистскому обществу, распространить там свои идеи. А так же для того, чтобы противостоять внутри ревсиндикатов и Советов влиянию политических партий, государственников.
В современном мире революционные синдикаты отсутствуют (есть несколько небольших мирных профсоюзов, которые используют старые великие имена (в США, Испании и Италии), но они не имеют никакого отношения с старым революционным синдикатам, потому что решают все вопросы в государственных судах и государственных комиссиях, т.е. отказались от прямого действия, как основного метода, используют государство в качестве посредника, ведут свою работу на основе его законов, права, порядка). Нет и Советов работников. Впрочем, в некоторых странах, прежде всего в Мексике и Сирии, действуют выбранные жителями территориальные Советы. Опираясь на собрания населения, они пытаются наладить общественную жизнь, работу коммунальных систем в условиях отсутствия государства. Это важный для анархизма массовый опыт, хотя он для анархистов намного хуже ревсиндикализма. Дело в том, что в работе таких Советов участвует и местный бизнес, эксплуатирующий наемный труд и обладающий деньгами для покупки решений районных собраний.
Случаются в разных странах и регионах стихийные стачки, которые, даже если большинство их участников - члены авторитарных и про-системных профсоюзов, могут на местах принимать очень радикальный почти анархистский характер. Некоторые анархисты в XX столетии осознавали это и рекомендовали участие в таких забастовках с целью вывести их актив из-под влияния про-системных профруководителей (сторонников социального партнерства с бизнесом) или даже создать на основе бывших ячеек профсоюзов анархо-синдикаты. Но такие события редки и даже в них принимает участие малое число анархистов.
Поэтому в анархистской среде наблюдается порой желание принять участие в движениях, которые ничего для создания анархистского общества не дают, никак на него не работают или даже прямо работают против него. Это можно понять, как желание "что-то делать". Но в итоге получается исключительно жалкое зрелище, когда анархисты превращаются в посыльных, мальчиков на побегушках, в шестерок у государственнических движений - у государственного национализма, например, или их государственной армии, или у бюрократии профсоюзов\НГО. Подобные вещи не просто бесполезны, они крайне унизительны, поскольку анархисты становятся чужими порученцами и выполняют чужую работу по приказу враждебных анархизму людей, организаций и идей. Когда анархист идет служить, к примеру, в армию украинского государства, он именно защищает этот государственный режим, а не борется за анархистское общество (сказанное верно для любой армии государства). Но в том-то и беда, что нет ответа на главный вопрос, о главном направлении деятельности. И пока оно не найдено, останутся блуждания в темноте.
Возможно, наибольший интерес для анархистов представляют независимые социальные инициативы в виде стихийных забастовок, зеленых экологических инициатив, инициатив жильцов и т.д. Но как выработать общие методы работы с такими движениями, что им предложить, как вести с ними работу - отдельный большой вопрос. И к тому же, прежде всего важно решить, что для людей, называющих себя анархистами, важнее: собственно анархизм или защита своего родного государства.